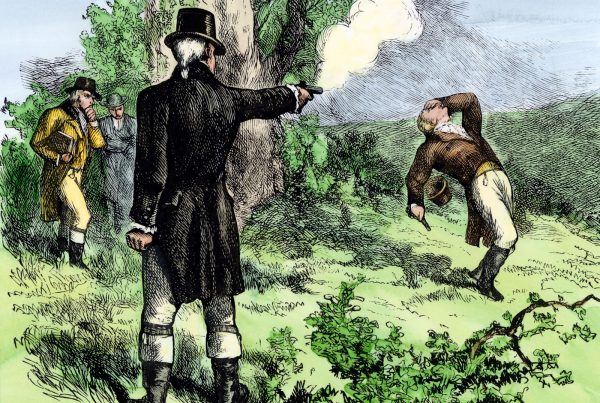Он пришёл в деревню не с мешком денег, а с вопросом, который тревожит любого в тупике: что именно удерживает тебя на месте. В 1976‑м молодой профессор экономики Мухаммад Юнус из Университета Читтагонга вышел из кабинета к Джобре, соседней деревне. Голод 1974 года, о котором писали The Economist, сделал сухие рациональные бизнес-модели бессильными. «Экономика теряла лица людей», вспоминал он позже в книге «Банкир бедных» (1999).
В хижине он встретил Суфию Бегум. Ночами она плела табуреты: сырьё брала в долг, а ростовщик затем покупал её изделие по цене, едва покрывающей бамбук. Юнус прошёлся по дворам и записал сорок две таких истории. На свободу от зависимостей всем вместе требовалось 856 така — около 27 долларов. Он вытащил деньги из собственного кошелька. Вернули всё, до последней монеты. Тогда возникла дерзкая мысль: если «несостоятельны» не люди, а сами банки? Позже Юнус повторит: бедные — не являются некредитоспособными; это банки просто «нелюдеспособны».
Коммерческие банки в Дакке и Читтагонге вежливо улыбались: залога нет, подписи неграмотны, риски высоки. Юнус сделал ставку на то, что у бедных есть другой залог — репутация в общине. В 1976 году он собрал первую «солидарную пятёрку»: пять женщин, отвечающих друг за друга. Они встречались еженедельно на открытом воздухе, складывали по монетке, вслух проговаривали «16 решений» Grameen: не платить калым, строить глиняные туалеты, держать питьевую воду чистой, учить детей в школе. Простые фразы, которые превращали деньги в перемены.
Страх никуда не делся. Одна из участниц, вдова, оставила отпечаток большого пальца вместо подписи и спросила: что, если соседка заболеет и не вернёт? «Тогда мы вернём за неё», — тихо ответила другая. Солидарность стала механизмом, а не лозунгом. Через месяц у первой появилась железная крыша — цинк блестел в тропическом солнце. Через полгода сына приняли в начальную школу. Эти мелкие победы, записанные в тетрадях полевых сотрудников, важили больше сотен страниц теории.
К 1979‑му эксперимент вышел за пределы Джобры — проект поддержал центральный банк; в 1983 году парламентским решением родился Grameen Bank — «деревенский банк». Не филиалы в стекле и бетоне, а «центры» в селах, где кредитные работники приходят к заёмщицам. К середине 2000‑х их были миллионы: отчёты Grameen за 2006–2007 годы говорят о более чем семи миллионах клиентов, из которых 97% — женщины; вскоре счёт перевалил за восемь миллионов. Уровень возврата держался выше 95% — цифра, которую проверяли и Всемирный банк, и независимые исследователи, споря о методиках, но признавая дисциплину.
12 октября 2006 года в Осло Нобелевский комитет назвал их имена: Мухаммад Юнус и Grameen Bank — «за усилия по созданию экономического и социального развития». На фотографиях он смущённо улыбается, как человек, которому принесли слишком большой букет. А в Бангладеш всё шли еженедельные собрания: женщины поднимали руки и обещали поддерживать детей в школе и копить на корову.
С позиций спиральной динамики и мышления второго порядка это история о «жёлтом»: целостном, неидеологическом, чувствительном к контексту. Юнус не ломал систему силой и не искал единственного правильного ответа; он сплёл сеть из малых правил и взаимных обязательств, где экономика, культура и достоинство работают вместе. Обладая большим многогранным опытом, он опирался на фиолетовые связи в общине, которые оказались гораздо крепче, чем можно было предположить. Гибкость, эксперименты малыми шагами, масштабирование через простые принципы — вот почерк второго порядка, в котором ценятся разные ценности и запускаются живые, самообучающиеся системы.