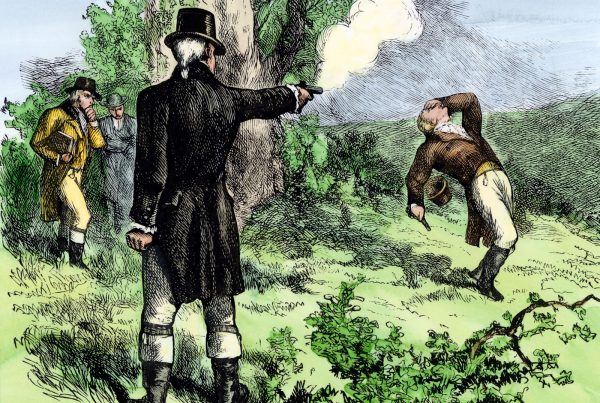Сначала появился запах: хлорный привкус в байкальском ветре, которого раньше не было. В 1966 году в городе Байкальске запустили целлюлозно-бумажный комбинат, гордость поздних хрущёвских планов, продолжение решения Совмина СССР 1958 года. Трубы давали светлую целлюлозу для вискозы и бумаги, а в озеро уходили тёмные шлейфы стоков — лигнин, соединения хлора. Рыбаки на южном берегу быстро обратили внимание на новые цвета воды.
Но почти сразу по отношению к заводу зазвучал голос сомнения. Лимнологи из Иркутска, Галиазий Геннадий Ильич и Маргарита Кожова, в Лимнологическом институте СО АН СССР собирали пробы, описывали состояния нерпы и омуля. Биолог Алексей Яблоков писал доклады и письма в Президиум АН. В 1969-м в Академии создают Комиссию по проблемам Байкала, которую курирует вице-президент АН СССР Михаил Миллионщиков: научные заключения впервые звучат публично и остро. В союзной прессе конца 1960-х это редкость: не по инструкции — по совести.
Писатели добавили особую интонацию. Валентин Распутин трогательно писал о святости Сибири; “Царь-рыба” Виктора Астафьева научила видеть в добыче меру, а Василий Песков в “Комсомольской правде” упрямо говорил о личной ответственности перед природой. В этих статьях впервые ясно прозвучало: человек не вправе отравлять то, чем живёт. Тогда это было почти крамолой — и потому действовало сильнее.
В Байкальске всё было сложнее. Завод — это не абстракция, это треть рабочих мест города, детские сады и хоккейная команда, горячие цеховые смены и свет в окнах общежитий. Люди гордились мастерством и боялись остановки. Перестройка принесла надежду: в 1987–1988 годах обсуждают модернизацию и сокращают сбросы. В 1996-м Байкал включают в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2008 году комбинат останавливают из‑за новых природоохранных норм, в 2010-м правительство смягчает режим водоохранной зоны, и трубы на время снова гудят. Но в сентябре 2013 года — окончательный стоп: экономический и моральный. Начинается процесс банкротства. Дальше — долгий труд. Под проект “Оздоровление озера Байкал” в нацпроекте “Экология” берутся за миллионы кубометров отходов. В 2019–2020 годах к ликвидации объектов подключают Федерального экологического оператора ГК “Росатом”. Вдоль берега снимают загрязнённые грунты, спорят о методиках. А город тем временем учится другой экономике: экотуризм, тепличные проекты, малые мастерские. Это не быстрые деньги, но это другие отношения с местом.
За полвека вокруг завода выросла этическая мускулатура страны. Учёные, журналисты, местные активисты, учителя, рыбаки — говорили на разных языках, но о главном. Многие признавались: страшно лишиться зарплаты, но ещё страшнее — лишиться права смотреть Байкалу в глаза.
С точки зрения зелёной стадии спиральной динамики это история про переход от логики роста любой ценой к логике заботы и взаимосвязанности. Здесь важны не победители и проигравшие, а ткань отношений: учёные и писатели становятся медиаторами ценностей, сообщество горожан осваивает участие, государство постепенно признаёт экосистему как морального “участника” переговоров. “Зелёное” видит не объект эксплуатации, а целый живой мир, и потому ищет решения, где экономика и экология не разводятся по разным папкам, а договариваются.