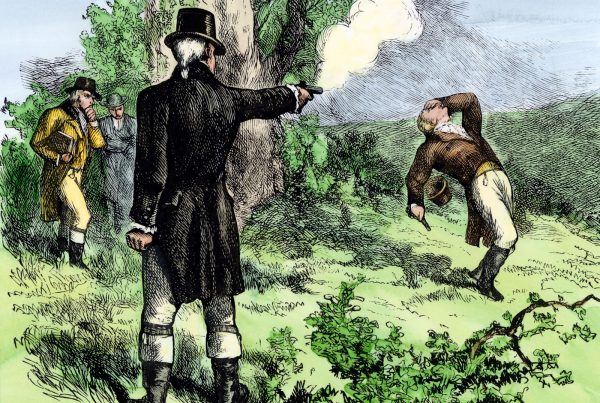Представьте: шумный Вавилон XVIII века до н. э., и юный писец, прижав к груди глиняную табличку, тянется глазами вверх к чёрному столбу — гладкому, как вода, высокому на две с лишним сажени. На вершине — царь Хаммурапи перед богом Шамашем, дарующим жезл и кольцо, меру и верёвку строителя. “Чтобы сильный не угнетал слабого”, — начертано ниже; эту фразу так и переводят в научных изданиях (см. M. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, 1997).
Хаммурапи, шестой царь Первой Вавилонской династии (1792–1750 гг. до н. э.), велел высечь на чёрном диорите около 1750 г. до н. э. 282 статьи, окружив их прологом и эпилогом — больше трёх с половиной тысяч строк клинописи. Он объединил города, спорил и договаривался, но по-настоящему удерживал страну не меч, а справедливые слова. В статьях есть всё: от цены на аренду вола до наказания за недобросовестный дом, который рухнул и погреб хозяина (знаменитая статья 229). Закон суров, даже сословен — один штраф для авилума, другой для мушкенума, — но в нём впервые явна мысль: вине соответствует мера. Не воля судьи, а предписанная шкала.
Мы редко помним, что это был публичный жест. Стелу ставили не в сокровищнице, а там, где люди ходят; как отмечает Доминик Шарпен (Writing, Law, and Kingship in Old Babylonian Mesopotamia, 2010), право в Месопотамии читалось вслух, на площади и в суде. Вы легко можете вообразить девушку-торговку, которая выучила на память формулу: “Если купец дал серебро без свидетелей — он не может требовать его обратно” — и наконец решилась спорить с соседом. Она знала: за её спиной не каприз градоначальника, а камень, на котором написано одинаково для всех её подобных.
И всё же история камня — тоже история власти. Около 1158 г. до н. э. эламский царь Шутрук-Наххунте увёз стелу как трофей в Сузы. Там её в 1901 г. нашла французская экспедиция Жака де Моргана; теперь она стоит в Лувре, инвентарный номер Sb 8. Изображение сияет: бог правосудия передаёт символы меры, а Хаммурапи складывает руки. В эпоху, когда слово часто было личной клятвой, появилось слово-правило, независимое от настроений.
Может быть, юный писец чувствовал не только страх, но и облегчение. Ему было кому подчиниться — высокому и далёкому порядку, который объясняет: глаз за глаз — но не больше; серебро — по весу, хлеб — по мерке. И вместе с тем — сомнение: почему наказание отличается для разных людей? Почему сын строителя отвечает за отца? Эти вопросы не разрушали камень, но трещинки в нём уже намечали будущие споры о равенстве.
С точки зрения синей стадии спиральной динамики это известный учебный пример. Порядок ценит внешний источник истины, долг и жертву ради устойчивого будущего, линейное время, ясные правила, ритуал и иерархию. Стела делает бессмертным не человека, а норму; превращает власть в служение Закону и обещает смысл: мир можно упорядочить, если подчиниться высшему. Сильные стороны — предсказуемость и общие рамки; уязвимые — жёсткость, сословность, слепота к контексту.
Через три с половиной тысячи лет мы всё ещё читаем этот камень, дописываем и переписываем его положения. Но именно он впервые задал меру твёрдости закона — каменную меру.