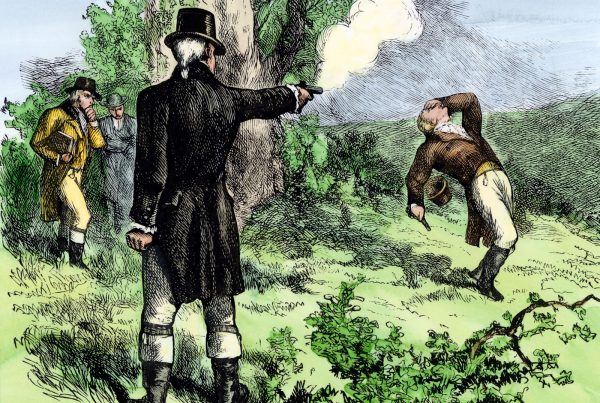Сначала это выглядело почти упрямством: когда вокруг обещали «мгновенные выплаты» и «доходность выше банков», «Ингосстрах» в начале 1990‑х упорно настраивал скучные регистры, учёт по МСФО и договоры перестрахования с Lloyd’s of London, Swiss Re и Munich Re. Тогда эта педантичность казалась старомодной. А потом наступило 17 августа 1998‑го.
Контекст был бурным и разношёрстным. Стране только что достался новый каркас рынка — Закон «Об организации страхового дела» № 4015‑1 от 27.11.1992. Лицензии выдавались быстро, и, по данным ВСС, число страховщиков к середине десятилетия измерялось сотнями. В этой толчее рождались компании с неотразимыми слоганами и пухлыми обещаниями. В офисах говорили звонко и коротко: «Главное — продажи!». У консерваторов голоса были тише. В «Ингосстрахе», наследнике советской внешнеэкономической школы 1947 года, на совещаниях подолгу спорили про резервы, качество активов и ретроцессию.
Лето 1998‑го пахло надеждой и перегретым асфальтом. А затем — остановка ГКО, банковская паника, курс доллара, сорвавшийся в крутое пике: с приблизительно шести рублей за доллар к двадцати с лишним осенью. Страховой надзор при Минфине фиксировал дыры в резервах, у десятков компаний позже были отозваны лицензии. Офисы некоторых «звёзд» закрывались так же стремительно, как открывались. В этот момент осторожность обрела голос. В «Ингосстрах» потянулась очередь клиентов.
«Кризис — это рентген», — заметил позже Игорь Юргенс из ВСС в одном из интервью, говоря о перестройке отрасли после 1998 года. Для многих компаний снимок оказался беспощадным. Для «Ингосстраха» — подтверждающим старую правду: дисциплина — не враг скорости, она её источник на длинной дистанции.
Прошло десять лет. Осень 2008‑го принесла другую волну — глобальную. Мировые рынки сжимались, ликвидность иссякала. И снова помогло то, что трудно продать на буклете: система. Договоры с Munich Re и Swiss Re продолжали работать как клапаны, IFRS‑отчётность делала разговор с банками и рейтинговыми агентствами предсказуемым, а внутренняя политика андеррайтинга оставалась скупо‑строгой. Да, собственники спорили, рынок трясло, но договоры выполнялись. Репутация превратилась в актив, который нельзя заложить, зато можно приумножить.
Самое человеческое в этой истории — сомнения. В середине девяностых любой руководитель мог уступить соблазну «роста по любым ценам». В «Ингосстрахе» тоже спорили: отдел продаж требовал ослабить фильтры, бухгалтерия морщилась, юристы вздыхали. Решение каждый раз было не эффектным, а эффективным. Оно рождало не восторг, а доверие.
С точки зрения оранжевой стадии спиральной динамики, это учебник по зрелому успеху: рациональность вместо порывистости, доказательность вместо лозунгов, ориентация на результат в долгую — через стандарты, метрики, внешнюю проверку, партнёрства и управляемый риск. Здесь ценится личная и корпоративная компетентность, конкурентность и инновация процесса, а не только продукта. И — важная деталь — амбиция не отменяет этику: прозрачность становится инструментом эффективности.