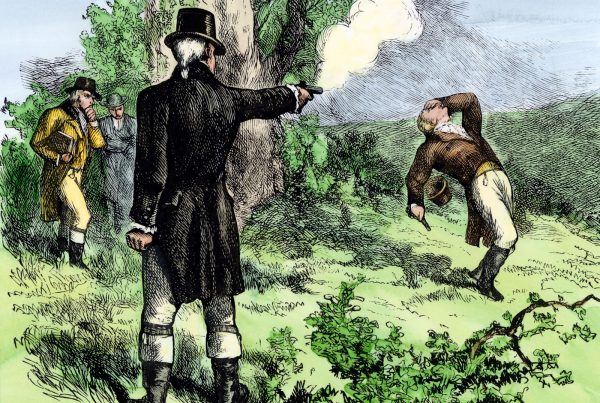Представьте праздник, где аплодируют не людям, а строкам букв. Рук не видно, имена не звучат, но экран мигает новыми фрагментами смысла, и от этого у кого‑то по коже бегут мурашки. Так выглядели будни тех, кто в 1990‑е согласился делиться самым уязвимым — незавершёнными данными.
В феврале 1996 года на Бермудских островах, в переговорной гостиницы в Гамильтоне, лидеры Международного проекта «Геном человека» — Джон Салстон из британского Sanger Centre, Роберт Уотерстон из Вашингтонского университета, Фрэнсис Коллинз из Национального института исследования генома человека (NHGRI) — вместе с представителями Wellcome Trust вывели на флипчарте простое правило: каждая новая секвенированная последовательность должна попадать в GenBank, EMBL и DDBJ максимум через 24 часа. Так родились «Бермудские принципы». Салстон потом повторял: «Геном человека принадлежит всем». Им верили не сразу — слишком соблазнительно было закрыть экран до статьи в Nature.
Лаборатории в Хинксоне, Сент‑Луисе, Хьюстоне и в Белмонт‑Кембридже синхронизировали картирование BAC‑клонов, правили чужие ошибки и злились не на людей, а на «фантомные» повторы. Молодые биоинформатики учили Phred и смеялись над тем, как часто их ночная работа исчезает в безымянном обновлении базы. Где‑то в три утра кто‑то отправлял письмо: «Оверлап проверен, идёт сборка», и в другой стране отвечали: «Гэп закрыт. Отлично». Премии и карьеры откладывались, зато сошлись кусочки общей картины.
В 1998 году частная компания Celera под руководством Крейга Вентера предложила альтернативу: быстро, дорого и не для всех. Напряжение стало осязаемым. Но 26 июня 2000‑го в Белом доме, где президент Билл Клинтон произнёс: «Сегодня мы изучаем язык, на котором Бог сотворил жизнь», на одной сцене стояли Вентер и Коллинз. Черновик охватывал около 90% генома. В 2001 году вышли две статьи — государственный консорциум в Nature, Celera в Science. А 14 апреля 2003‑го объявили завершение: около 3 млрд пар оснований, ошибка приблизительно одна на десять тысяч, стоимость проекта — примерно $3 млрд, десятки центров в шести странах.
В газетах чаще писали «Проект генома», чем «Пэтси, закрывшая последний гэп». И всё же радость была личной. Один техник вспоминал, как заплакал, когда увидел, что их маленький участок хромосомы 20, над которым бились месяц, наконец‑то улёгся «как шов по нитке». Докторантка признавалась: «Я боялась, что без авторства моя жизнь не сложится. Но в тот день я впервые почувствовала, что мой труд — это вклад, который больше, чем имя на статье».
За кулисами шли споры: кто достойнее стать первым, что будет с патентами, где граница между открытым и чужим? Решение делиться требовало не слабости, а устойчивости — держать собственные амбиции на коротком поводке и снова открывать файл, соглашаясь, что завтра его будут править другие.
С точки зрения зелёной струны спиральной динамики эта история — про ценность отношений и общего блага выше индивидуальной гонки. Здесь важны сеть и доверие, а не титулы; процесс и участие, а не только результат; диалог с «оранжевым» миром конкуренции, но выбор в пользу равного доступа и эмпатии. «Зелёное» учит слышать многих и делить плоды, сохраняя уважение к каждому участнику.
Как вам сегодня — радоваться тому, что вы создали, если аплодисменты звучат не вашему имени, а тому, что стало общим домом для многих?